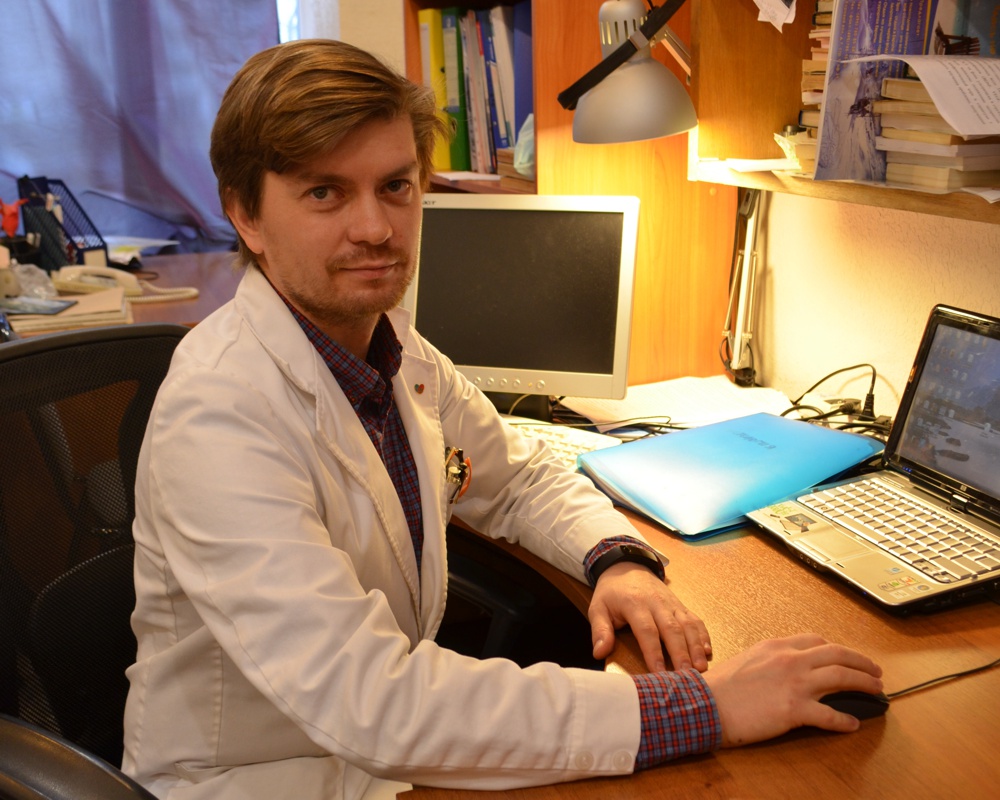
Игорь Владимирович Кастыро — врач—оториноларинголог, доктор философии, член Российского и Европейского кардиологического общества, член Российского общества по изучению боли и Союза европейских фониатров, член Европейского общества ринологов и Американского общества The Voice Fondacion, преподаватель кафедры нормальной физиологии медицинского института РУДН.
— После окончания РУДН в 2009 году Вы продолжили учебу, а затем остались работать в родном университете. Вы патриот РУДН, не так ли?
— Я люблю свой университет! Это искреннее чувство, потому, что наш Университет, хоть это и избитая фраза, уникальный. Уникальный в том, что с одной стороны это классический университет, а с другой — он международный.
— Когда Вы студентом выбирали для себя специальность, оценивали ли Вы перспективность, возможность карьерного роста?
— Да, я обдумывал перспективность каждой из специальностей. Честно говоря, когда был в ординатуре, было очень тяжело: за спиной семь лет учебы (я учился еще на подфаке), ординатура стоит полторы тысячи рублей в месяц, денег нет. Но я сказал самому себе, что надо взять себя в руки, написать диссертацию и двигаться только вперед. Уже прошло много лет, а я до сих пор влюблен в оториноларингологию. Когда я преподавал ЛОР, то говорил студентам: «Ребята, у нас восемнадцать направлений. Можно выбрать любую стезю для научных исследований — и фониатрия, которой я занимаюсь, и мои любимые сурдология и ринология, ЛОР—онкология, иммунология, педиатрическая оториноларингология. Столько всего интересного!». Сам я отоларинголог в квадрате: сначала прошел всю оториноларингологию, потом отдельно ринологию, фониатрию гортани и отдельно сурдологию. Считаю, что перспективы карьерного роста зависят только от внутренней мотивации. Если человек хочет, то он добьется. Если не хочет, то хоть что делай, не будет толку.
— Когда Вы учились, у Вас уже были задатки человека, который посвятит себя науке?
— Да, конечно. Об этом можно судить и потому, что я уже на первом курсе пошел работать на кафедру гистологии лаборантом. И на втором курсе поехал делать первый доклад на конференцию в Сыктывкар. Это было что—то! Заведующим кафедрой гистологии был Дмитрий Иванович Медведев, вот он меня и направил и на конференцию, и в науку. У него мы изучали эмбриогенез нервных волокон в легких и в пищеварительном тракте у эмбрионов кролика и человека.
— На Ваш взгляд, сохранилась ли в нашем вузе система научного наставничества?
— Такого понятия «научная школа», как было раньше, к сожалению, не сохранилось. Школы распались, люди разъехались. Но это двоякий процесс: и хороший, — потому что приходит «новая кровь», люди с другой ментальностью, из других школ, — и плохой, так как понятие «научная школа» размывается. Что касается медицины, то мы на кафедре исследуем проблемы адаптации. Наша кафедра до сих пор является ведущей в СНГ по проблемам адаптации.
— Вы совмещаете научную деятельность с практикой. Это Ваша позиция или вынужденная ситуация?
— Я считаю, что если ты закончил лечебный факультет, то ты обязан, ты должен закончить ординатуру, стать специалистом. И я всегда говорю, что врач — это маленький исследователь, маленький научный деятель. И это на самом деле так. На приеме в поликлинике ты должен докопаться до истины, используя то, что называется клиническим мышлением. Если пришел к тебе пациент с кашлем, который никак не может его вылечить, то обязательно выясни, туберкулез ли у него, ВИЧ, генетика или какая—нибудь врожденная дисплазия, которая неожиданно проявилась в 45 лет. То есть врач должен вспомнить и генетику, и физиологию и все, чему его учили в институте. Недаром же мы здесь их учим! Мне помогает в науке моя клиническая практика, а в клинической практике помогает то, что я владею теоретическим материалом. Научные исследования подпитывают, дают свежий взгляд на старые клинические проблемы.
— Что необходимо, на Ваш взгляд, для развития потенциала ученого?
— Для этого, в первую очередь, необходимо хорошее финансирование и полноценная научная база в университете. В нашей стране очень много талантливых ребят, но нам нечем их заинтересовать. Мои студенты уезжают в Нью—Йорк, Дрезден, Штутгарт, Ганновер, Женеву. А эти люди нам нужны, и чтобы они остались, для них нужно создавать условия. Или, например, научная база: у нас в РУДН нет гистологической лаборатории. Я считаю, что медицинский институт должен иметь современную гистологическую лабораторию! Это очень важный вопрос, если хотите, вопрос научного престижа нашего вуза.
— Что именно составляет предмет Ваших исследований. Чем привлекает Вас именно это направление?
— Сейчас я пишу докторскую диссертацию, посвященную теме стресса при лор-операциях, в частности при операциях полости носа. В полости носа очень много рецепторов, связанных с сердцем, бронхами и т.д. И когда мы оперируем и плохо обезболиваем пациентов, они испытывают жуткую боль. А это нос, это голова — рядом головной мозг. И в работе все это показано, и в эксперименте в том числе. Мы исследуем людей в холтеровском направлении экг, вариабельность их сердечного ритма. Мы доказали, что действительно нужно хорошо обезболивать людей и активно искать свежие, новые подходы к обезболиванию при данном виде операций.

— Вы преподаете и ведете кружок «Физиология стресса» на кафедре нормальной физиологии. Как Вы считаете, способны ли современные студенты справляться с научными задачами?
— Конечно, способны! Мои студенты—второкурсники недавно выступили на конференции, где соревновались с представителями первого и второго медицинских институтов и Санкт-Петербурга, с пяти- и шестикурсниками, ординаторами и даже одной аспиранткой из Архангельска. И один из них занял второе место на клинической секции с докладом по проблемам голоса и вариабельности сердечного ритма, их связи с вегетативной нервной системой и дыхательными и голосовыми упражнениями. Они достойны, потенциал хороший!
— Сейчас много говорят о публикационной активности профессорско—преподавательского состава. Как Вы справляетесь с этой задачей?
— Да, конечно, я, как и все, публикуюсь в ведущих российских и зарубежных журналах. К тому же являюсь рецензентом такого солидного журнала, как Curant Clinikal Farmacology. Одной из последних в Вестнике оториноларингологии была опубликована моя статья, посвященная иммуногистохимической диагностике назофарингиальной карциномы.
— Как Вы относитесь к проблеме самоцитирования?
— В нашей стране вплоть до 90—х годов проводились очень интересные, я бы сказал, передовые исследования. Но они не были опубликованы на английском языке. И многое, о чем пишут сейчас зарубежные коллеги, было сказано у нас еще в сороковые, пятидесятые годы. Например, были такие известные психоневрологи, физиологи Луриа и Давыдовский. Они в свое время говорили о многих вещах, о которых просто не знают, потому что они были изданы только на русском. Да что далеко ходить, Павлов Иван Петрович, я читал его и понимал, что это такой пласт, который нужно исследовать и исследовать. Того, что он написал, хватит, наверное, до 2150 года. Это действительно что—то потрясающее!
Проблема самоцитирования заключается в том, что мало знают наши публикации. Почему? Первый момент связан с тем, что у нас нет материальной базы. Идеи хорошие, а исполнение страдает, поэтому ученые вынуждены печататься в наших журналах. Второй момент — за рубежом журналы требуют оплаты за публикацию. Это очень дорого, мы не можем позволить себе заплатить за публикацию 4 тысячи евро.
Самоцитирование? А почему нет? Если проблема, которой ты занимаешься, не занимается никто, если статья была издана в нормальном рецензируемом журнале, то это сравнение исследований. И какая разница, кто их провел, я или другой? Проблема на самом деле не в самоцитировании, а в тенденциозности, когда ученому сложно дифференцировать одно и другое, когда он чужд самокритике и считает, что правильно только то, что сделано им.
— Игорь Владимирович, Вы активный человек?
— Ой, это мне мешает. Очень активный, у меня нет выходных. Я так хочу выспаться!
— И, последний вопрос, как Вы считаете, совместимы ли счастливая личная жизнь и хорошая карьера?
— Я стараюсь не смешивать личную жизнь и работу. Очень стараюсь, иногда это не получается. Но не получается в силу возникающих задач для дела. Для меня — прежде всего дело, а потом все остальное!
Екатерина Ермакова.
Профессор Яков Викторович Кузяков — доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра «Смарт-технологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений» и руководитель научной школы в области почвоведения в Аграрно-технологическом институте РУДН рассказал о научной карьере, международном сотрудничестве, способах повышения урожайности почв и поделился секретами своего профессионального успеха.
Профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Владимирович Тетельмин - заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы, академик Российской академии естественных наук (РАЕН), заместитель председателя Комитета по экологии Государственной думы I и II созывов, автор 185 научных трудов, в том числе 28 учебников и монографий.
Профессор Яков Викторович Кузяков — доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра «Смарт-технологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений» и руководитель научной школы в области почвоведения в Аграрно-технологическом институте РУДН рассказал о научной карьере, международном сотрудничестве, способах повышения урожайности почв и поделился секретами своего профессионального успеха.
Профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Владимирович Тетельмин - заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы, академик Российской академии естественных наук (РАЕН), заместитель председателя Комитета по экологии Государственной думы I и II созывов, автор 185 научных трудов, в том числе 28 учебников и монографий.
